Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, член Координационного совета оппозиции Михаил Гельфанд рассказал «Бумаге», стоит ли опасаться массовых увольнений свободомыслящей интеллигенции после истории с «Тангейзером», к чему ведет открытая поддержка церкви светской властью и почему современной России не нужны инновационные технопарки.

Михаил Гельфанд. Фото: Анна Груздева
— В Петербурге студенты СПбГУ не первый раз за месяц выступают против отставок преподавателей, как они заявляют, по политическим мотивам. А несколько часов назад стало известно об отставке директора новосибирского Театра оперы и балеты Бориса Мездрича из-за скандала с оскорблением чувств верующих. Как вам кажется, не идет ли сейчас речь о новом своеобразном «философском пароходе»?
— Что тут говорить, как мы наблюдаем, чистки происходят. Опасаться уже поздно: уже надо бояться или не бояться. Что касается новосибирской истории, то меня очень смущает новый директор Владимир Кехман, который согласился занять эту должность: по-моему, это мародерство. Занять место человека, уволенного по политическим мотивам, по доносу — это мародерство, все равно что снять сапоги с трупа или вынести вещи из брошенного дома. Вторая история до некоторой степени духоподъемная, за ней я тоже следил. Питерский университет не самое светлое место на свете. Мне очень нравится позиция студентов и что есть ребята, которые открыто протестуют — это, по-моему, замечательно и здорово.
Опасаться сейчас политических чисток в естественных науках не стоит, биологи для власти неопасны. В первую очередь страдают люди, которые имеют дело непосредственно с общественными отношениями; на «философский пароход» ведь сажали философов. Другое дело, что советская и российская биология так и не оправилась после реформ Трофима Лысенко (советский агроном, основатель псевдонаучного направления в биологии — мичуринской агробиологии — прим. «Бумаги») — великой биологии, которая была в 1930-е годы, не стало. То есть в советской науке, конечно, были сильные ученые, но таких же сильных биологов, как физиков и математиков, не было.
Опять же, ведь преподавали закон Божий в царских гимназиях. И большую атеистическую прививку трудно себе представить
Жизненное наблюдение состоит в том, что неугодных людей сейчас стараются скорее выдавливать, чем как-то репрессировать. Слава богу, коль так.
— В новостях мы видим, что публичная власть активнее поддерживает религиозное мировоззрение, нежели научное. Как, по-вашему, это скажется в перспективе на научной среде и на обществе в целом?
Ну, освященные ракеты вот у нас вовсю падают. Я был как-то на одной конференции на пароходе. Раньше, когда были деньги, существовала такая традиция: устраивать научные конференции на пароходах, плавали по Волге. На единственной из таких конференций, где я был, было несколько московских научных чиновников. Они были замечательные: вечера они проводили со специально для этого позванными девицами. Зато в каждом городе на Волге, где мы выходили и где были монастыри и выстраивались очереди целовать иконы, они были в первых рядах. И, судя по возрасту, это были люди, которые успели еще при советской власти в компартию вступить. Вот как быстро у них мировоззрение поменялось на религиозное, также быстро оно с них и соскочит. Поэтому я не опасаюсь каких-то серьезных мировоззренческих сдвигов.
В стране, где люди сидят на трубе и планируют всего на полгода вперед, развитие технологий невозможно в принципе
Я опасаюсь скорее тотального невежества: когда на биологию в старшей школе отводится один урок в неделю, вырастают люди, которые боятся ГМО, вакцин и так далее. Это серьезная проблема: даже в самом бытовом смысле некое понимание основ биологии полезно, чтобы принимать те или иные решения. Человек без биологической вакцины в голове ведь может легко пойти и начать лечиться какой-нибудь гомеопатией. Поэтому мне кажется, что большую опасность представляет не мировоззренческое мракобесие, а тотальная безграмотность.
— Запрет ГМО, к слову, выходит на законодательный уровень. Как вы относитесь к такой инициативе?
— Удивительная вещь. Антигмошные депутаты люди очень невежественные, и бог с ними. В истории с ГМО и последними законодательными инициативами меня как раз смущает позиция министерства наук. Мало кто знает, но когда такого сорта идеи начали появляться, было написано письмо в Минобрнауки, которое подписали 300 человек. В основном это были люди со степенями: доктора и кандидаты наук, биологи, медики. В письме говорилось, что ученые, работающие в биологии, обеспокоены такими инициативам, которые могут надолго затормозить развитие генной инженерии. Там высказывалась просто профессиональная точка зрения без всякой политики.
И был очень хороший внятный ответ Минобрнауки, что оно разделяет эту точку зрения и всегда давало отрицательные отзывы на такие законопроекты, развитие генной инженерии является важной задачей и так далее. Теперь вдруг оказывается, что то же самое Минобрнауки этот законопроект и внесло в Госдуму. Понятно, конечно, что кого-то там просто поставили в неудобную позу.
Человек без биологической вакцины в голове ведь может легко пойти и начать лечиться какой-нибудь гомеопатией
На самом деле, законопроект идиотский во всех отношениях. В нем объясняется, что он важен с точки зрения импортозамещения, но на деле получается, что в России модифицированную продукцию выращивать нельзя, а завозить можно. А если у себя производить нельзя, то и исследовать незачем: генная инженерия — наука прикладная, в ней большого фундаментального смысла нет. Вообще, это прямой ущерб национальным интересам, в их в самом прямом «единороссовском» смысле. Но что идет от невежества, а что от прямого лоббирования — интересный вопрос. Мне кажется, что тут проблема не мракобесия, а чьих-то конкретных коммерческих интересов.
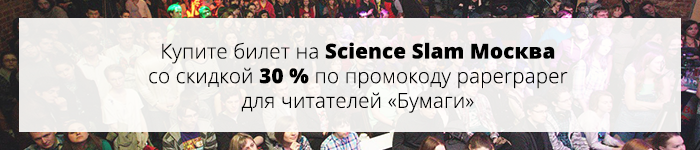
— Говоря об опасности невежества, как вы, преподаватель, относитесь к инициативе обязательного введения основ православной культуры в школьную программу?
Идея принадлежит еще патриарху Алексию Второму. В его циркулярном письме о введении подобных «основ православия» в школах есть оговорка: мол, если название вызовет отторжение на местах, то назвать предмет стоит как-нибудь вроде «основ православной культуры». Я согласен с тем, что каждый человек должен знать религиозную культуру, чтобы хотя бы понимать живопись Возрождения. Однако когда под вывеской основ религиозной культуры происходит православное индоктринирование — это иезуитское лицемерие: все прекрасно отдают себе отчет в том, что врут. Опять же, ведь преподавали закон Божий в царских гимназиях. И большую атеистическую прививку трудно себе представить.
— Повлияет (или, может быть, уже влияет) на биологию и науку в целом нарастающая внешняя изоляция России?
— Глобально, я думаю, нет. Конечно, есть примеры, когда люди отказываются ехать на конференции в Россию именно из политических соображений. Но научное сообщество в целом интернационально. На себе этого не замечал: мои коллеги прекрасно знают, что я думаю, и наказывать меня за то, чему я в меру сил пытаюсь противодействовать, никто не собирается. Мне тоже время от времени приходится принимать похожие решения: мне пишут письма иранские ученые по каким-то вопросам. И вот мне надо решать: я иранскому биологу готов что-то объяснить или нет? Я считаю, что чем больше будет в науке контактов, тем лучше для всех.

Михаил Гельфанд и Сергей Пархоменко. Фото: Андрей Мишуров
Проблемы будут в другом. Те гранты или деньги, которые выделяются на закупку нашего оборудования или реактивов, остались прежними — в рублях. А покупаем мы их не в соседнем супермаркете и не за рубли. Конкретно в моей области это не очень большая проблема, потому что я теоретический биолог, мне только компьютер нужен и интернет. Моя наука закончится с отрубанием интернета; правда, к этому времени все уже настолько закончится для всех, что думать про науку будет бессмысленно. А вот коллегам — экспериментальным биологам — приходится урезать какие-то свои проекты и сокращать расходы: закладывали в смету одни цифры, а все подорожало в два раза.
— Вы много отзывались о текущей реформе Академии наук. На каком она сейчас этапе и прислушиваются ли в процессе ее проведения к научному сообществу?
— Мы привыкли думать, что власть — некий единый монолит. Но это не так: там тоже разные люди и мнения. То руководство ФАНО (Федеральное агентство научных организаций, образованное в ходе реформы в 2013 году в том числе для управления всем имуществом научных организаций России — прим. «Бумаги»), что есть сейчас, вполне вменяемое и готово слушать нас. Другое дело, что еще сильнее оно готово слушать приказы, поступающие сверху: из Администрации президента или я уже не знаю откуда. У них нет цели сделать плохо, поэтому они готовы прислушиваться к тем, кто им дает какие-то разумные советы. Но потом сверху спускается какая-то хрень, они берут под козырек и выполняют, что сказано.
«Ну что, Михаил Сергеевич, как тебе реформа-то?». И я говорю, что нет, это же не моя реформа, а хрен знает что
И в этой ситуации говорить, что кто-то к кому-то прислушивается, немножко бессмысленно. К тому же это ставит советчиков в несколько идиотское положение. Вот я сижу там в рабочей группе по оценке институтов. Мы разработали хороший регламент, разумные критерии оценки, разумные процедуры сохранения эффективных лабораторий. В общем, куча основанных на опыте оговорок и мелочей, которыми занимались практикующие ученые, действительно много об этом думавшие. А дальше оказывается, что кто-то из институтов с кем-то сливается без всяких критериев и оценки, а просто потому, что так надо. Поэтому, с одной стороны, кажется, что к тебе прислушиваются, — а в реальной жизни все идет перпендикулярно тем документам, где ты встречаешь свои высказывания.
— Как, по-вашему, в рамках текущей реформы и современного состояния науки жизнеспособны ли такие масштабные инициативы, как академгородки, и инновационные суперпроекты вроде «Сколкова»?
— Все относительно. Я думаю, что при нынешней жизни России не стоило бы ввязываться в большие проекты, потому что первоочередная задача — сохранить то, что есть. А потом уже можно думать про то, чтобы делать что-то большое и светлое. С академгородками есть разные примеры: хороший пример новосибирского Академгородка, где есть университет и постоянный приток кадров. И есть очень тяжелый пример Пущинского академгородка, который я очень люблю. Но Пущино, конечно, вымирает, там нет университета. Они пытаются делать магистерский университет, но пока не получается, а молодые кадры очень нужны.
— За то время, которое вы преподаете, изменилось ли количество студентов, выбирающих научную карьеру?
— В каждом поколении есть люди, идущие в науку, потому что больше ничем не хотят и не умеют заниматься; у них есть мотивация — и очень сильная. И такие люди всегда существуют. Разумное общество умеет таких людей правильно использовать, материализовать правильно их научную энергию, чтобы это было всем полезно и интересно. Очень не люблю плач о том, что вот, мол, раньше были студенты ого-го, а сейчас уже не то. Я не так долго преподаю, всего десять лет, но таких колебаний не ощущаю. Я только что неделю провел, обучая школьников; есть совершенно удивительные. Если бы общество было устроено разумно, они бы и продолжали заниматься наукой на общее благо.
— Вы говорите о вопросе налаженности социальных лифтов?
— Не столько. В науке немножко иные механизмы: есть содержательная наука и умение не только самому делать что-то разумное, но и организовать какую-то, например, исследовательскую команду на следующем этапе своего развития. Правильно устроенная система науки позволяет таким людям организовать группы под научные задачи или направления. Но в России с этим проблема: система совершенно закостеневшая.

Андрей Кураев, Николай Солодников, Михаил Гельфанд. Фото: Анна Груздева
Возвращаясь к реформе: преобразование Академии наук было абсолютно необходимо. Другое дело, что это должна была быть совершенно другая реформа. Я с 2006 или 2007 года говорил, что нужны преобразования; теперь всякий коллега, что меня встречает, спрашивает: «Ну что, Михаил Сергеевич, как тебе реформа-то?». И я говорю, что нет, это же не моя реформа, а хрен знает что.
— Коллеги имеют в виду вашу статью с нынешним министром образования и науки Дмитрием Ливановым, в которой речь шла о реформировании?
— Когда мне вспоминают статью с Ливановым — это очень хорошо. Я всем предлагаю ее распечатать и галочками пометить те пункты, с которыми кто-то не согласен, и обсуждать детально. Но из критиков еще никто так не сделал.
— Преобладающее мнение последних лет таково, что перекос в сторону прикладных технологий может погубить богатую советскую базу фундаментальных наук. Как вы считаете, насколько это опасение реально и что с этим можно поделать?
— У начальства есть иллюзия, что если у нас всех заставить заниматься технологиями, то они станут чудесными. Реально это работает не так: нужно создавать систему возможностей, чего нет. В какой-то степени «Сколково» было попыткой создать такую систему — для перетекания в прикладные исследования.
От того, что вы построите дом и назовете его технопарком, ничего не изменится
Фундаментальные науки и прикладные — очень разные области, которыми иногда заняты одни и те же люди. Бывают талантливые ученые и талантливые инженеры в одном лице, но чаще всего это не так. У них совершенно разные критерии: в фундаментальной науке главный критерий — это новое знание, а в прикладной — работающий объект. Например, лекарство.
В разумном обществе влияние на развитие тех или иных областей науки оказывается очень мягким: не через директивы, а через экономику. С прикладной наукой проблема не в том, что некому ей заниматься. Проблема, на самом деле, в том, что в сырьевой державе технологические копания не выживают: у них совсем другой горизонт планирования и совсем другая норма прибыли. В стране, где люди сидят на трубе и планируют всего на полгода вперед, развитие технологий невозможно в принципе. Не по административным или государственным причинам, а по экономическим.
— В таком случае, в какой экономике востребованы фундаментальные науки?
— В любой разумной. Ведь видно, что сильные технологические кластеры создаются там, где есть уже хорошая фундаментальная наука. Угрюмо, банально, но лучший пример — Силиконовая долина, стартапы вокруг MIT Гарварда и прочие, что на слуху.
— В России тоже строят технопарки для стартапов, приглашая тот же MIT для «Сколкова», возводят технопарк в упомянутом новосибирском Академгородке. В чем разница?
— Понимаете, от того, что вы построите дом и назовете его технопарком, ничего не изменится. Вам нужно, чтобы фирма, у которой есть какая-то идея, нашла инвестора, у которого горизонт планирования не полгода, а больше. Который не думает о том, что через шесть месяцев ему нужно будет сворачиваться и сваливать, — это про политическую составляющую. Экономическая составляющая в том, что в сырьевой экономике технологические новшества просто не нужны. Они не оправдываются: умный человек, у которого есть деньги, купит себе скважину, а не технологическую компанию.
